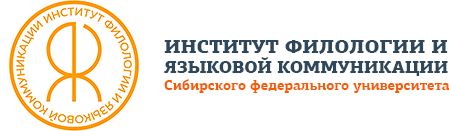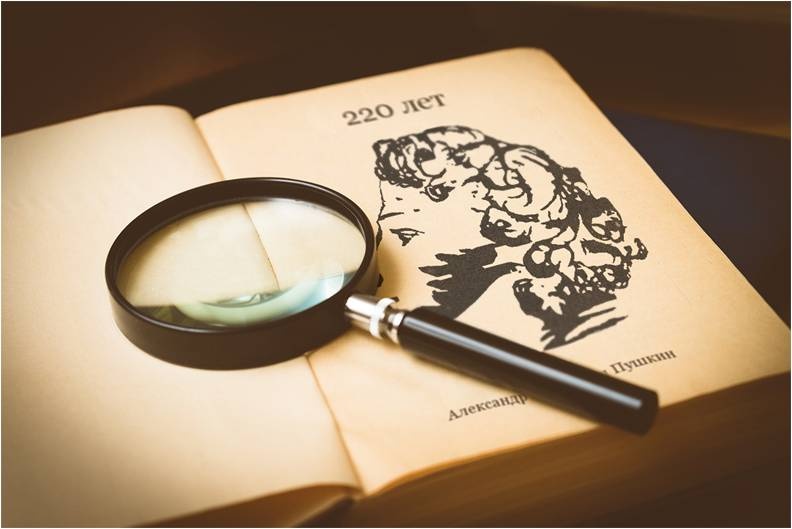
По меткому, ставшему крылатым словом, замечанию критика Аполлона Григорьева, «Пушкин – наше всё». В этой оценке было и преклонение перед литературным великаном, создателем национальной русской словесности, каковым был Пушкин, и вместе с тем – рискованная эфемерность, нечеткость определения. «Всё», если вынести за скобки толстовскую религиозную оснастку этого слова, – только «всё», и ничего более. Находясь словно в вечной тени своего великого предшественника, русские писатели, особенно принимавшиеся говорить о Пушкине как о поэте (не как о ярком человеке, политическом мыслителе, публицисте, историке – а во всех этих ипостасях автор «Евгения Онегина» реализовался сполна), предпочитали занять позицию своеобразного многословного умолчания. Высказываний о Пушкине не счесть, многие из них, подобно цитированному выше григорьевскому, стали клише и идиомами («русский человек в конечном его развитии, каким он явится через 200 лет» Гоголя, «всемирная отзывчивость» Достоевского). И тем не менее пушкинский гений, великое мастерство творца русского литературного слова, как, вероятно, любой идеал высшей пробы, как будто лишался отличительных свойств, превращался в текучее содержимое для сосуда любой формы, мерцал где-то вдали и вечно, перифразируя опять-таки Гоголя, «не давал ответа». Конечно же, эта черта восприятия способствовала появлению откровенно смешных и анекдотических текстов, решений, подходов. Мерцающий вдали весельчак Пушкин начинал задорно подмигивать своим потомкам.
Характерно, что молодому Толстому проза Пушкина показалась «какой-то» «голой». Т.е. опять-таки: в ней явно что-то есть и вместе с тем она «просвечивает», пропускает взгляд сквозь себя. Ученик и увлеченный последователь Толстого Бунин оставил нам такую юмореску. В 20-е гг. в эмиграции ему задали три вопроса: «1) Каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?» <...> «Какой характерный вопрос: Каково ваше отношение к Пушкину?», – задумался над первым из них на страницах собственной статьи Бунин. И продолжил: «В одном моём рассказе семинарист спрашивает мужика:
А оставшийся в России Брюсов примерно в те же годы выразился в своей книге «Мой Пушкин» так:
«Нам трудно представить себе Пушкина, как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь. <…> Между Пушкиным и нами поставлено слишком много увеличительных стекол – так много, что через них почти ничего не видно <…> Приходится чутьем, вдохновением выбирать из рассказов и показаний современников, что в них верно до глубины и что только внешне верно, – угадывать Пушкина».
Знакомый – и вечный незнакомец. Биография, известная буквально до каждого дня (а дуэльная история 1837 г. – едва ли не до каждого часа), – и невозможность сформулировать отношение. Пушкинский юбилей, торжество, всякий раз приходящееся на год с последней 9-ткой в числе, сам давно превратился в особую церемонию – ритуал вопрошания: помним ли мы своего лучшего поэта, каково наше к нему отношение. И замираем: «Никак я не смею относиться к нему». С очередным юбилеем, Александр Сергеевич!
т. +7 (391) 206-26-88