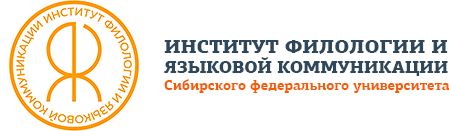«Автор пишет только половину книги: другую половину пишет читатель»
(Джозеф Конрад)
«Всероссийский день чтения» ─ он точно, в первую очередь, всероссийский! Ибо литература ─ величие России и откровение о ней. Убери из русской культуры художественную классику ─ что останется?.. Найдите ответ сами.
Поскольку я добровольно вызвался написать про этот праздник, то и буду писать, ни на кого не оглядываясь.
Тезис первый. Художественный текст нечитаем. В принципе нечитаем. Его смыслы недоступны не только «простому читателю», но и профессиональному филологу, будь он хоть трижды академиком. Доказательство тому ─ само существование наук о тексте, литературоведения прежде всего. Если бы смыслы художественного сочинения всякий раз были ясны и прозрачны, то зачем создавать громоздкий и сложный аппарат, призванный обеспечить его понимание?..
Тезис второй. Мы читаем текст и понимаем его.
Никакого противоречия между двумя данными тезисами нет. Мы читаем и понимаем поверхностные смыслы и не понимаем глубинные. Даже не знаем о наличии последних, хотя можем о чем-то подобном догадываться, а то и рассуждать ─ «в общем и целом».
Студенты-филологи на первом курсе с удивлением узнают множество интересных и элементарных фактов. О них надо было бы узнать и закрепить их еще в школе, но увы... Например, откровением для большинства мальчиков и девочек зачем-то удерживаемых за партами 11 лет, является тот факт, что литература у нас появилась вместе с крещением Руси и по своей сущности она является христианской. Второй факт заключается в том, что незыблемые границы и периодизации часто существуют только в нашей голове, в природе изучаемого предмета таковых нет. А потому к более чем тысячелетней истории развития русской литературы необходимо добавить еще тысячу лет развития литературы библейско-византийской. Византийскую культуру по отношению к русской принято называть материнской. Так и есть, смысл здесь совершенно прямой. Система, называемая поэтикой, была в готовом (и трансформированном) виде трансплантирована на русскую почву из Византии. (Все оговорки и уточнения оставляю в стороне.)
Тезис третий. О глубинных смыслах. Смыслы эти носят архетипический, т.е. скрытый, бессознательный характер. А потому и нечитаемый. Как понять, если даже не видишь написанное? Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг дал самое глубокое определение «коллективного бессознательного» на закате своей жизни: «Я предпочитаю термин “бессознательное”, хотя знаю, что могу с тем же успехом говорить “Бог” или “демон” <…> “мана” [психическая энергия], “демон” и “Бог” – синонимы “бессознательного”». В христианской культуре Бог и демон это не только Бог и дьявол, но и Христос ⼀ Антихрист. Юнг прекрасно понимал бинарную цельность основания европейской культуры. Он писал: «Раннее христианство с непогрешимой логикой противопоставило Христу Антихриста. Ибо как можно говорить о “высшем”, если нет “низшего”, о “правом”, если нет “левого”, о “хорошем”, если нет “плохого”? <...> Приход Антихриста <...> это непреложный психологический (!) закон».
Медиевисты довольно активно пользуются термином «imitatio Christi», видя в нем фундаментальное свойство средневековой поэтики. Достаточно сказать, что все разновидности жизнеописаний житийных героев, святых, восходят к жизнеописанию Христа. Но поставить на этом точку не получается. Проблема в том, что все «положительные герои» новой литературы наследуют все ту же агиографическую поэтику христоподобия. Даже очевидных примеров слишком много. В этом ряду Татьяна Ларина (из восьмой главы) и Маша Миронова, Тарас и Остап Бульба, Платон Каратаев и княжна Марья, Пьер Безухов и Андрей Болконский (оба ─ в конце своей романной жизни), князь Мышкин, Алеша Карамазов и старец Зосима, солженицынская Матрена... Даже если автор заблудился и выдает черное за белое, он обязательно наденет на своего героя маску Спасителя. Таковы псевдохристоподобные «новые люди» Н.Г. Чернышевского, герой Николая Островского Павка Корчагин, бесчисленные образцовые клоны соцреализма и пр., пр.
Однако дело еще и в том, что, кроме жизнеописания Сына Божия, христианская культура сгенерировала жизнеописание Антихриста. Оно не могло существовать в таком же цельном виде, как история Христа. Оно реконструируется на основании группы источников: библейских, сочинений Отцов Церкви, апокрифов, народных легенд. Это полноценный сюжет ─ большая конструкция! Она фактически полностью бессознательна, является достоянием «черного ящика». Я готов назвать ее доминантным архетипом, описывающим наименее понятное нам (ментальное) пространство зла, греха, заблуждения. Все злые, отрицательные герои средневековой и новой литературы восходят к демоническому архетипу.
«Сюжет об Антихристе» представляет собой зеркальное отражение «сюжета о Христе». Непорочному зачатию Сына Божия противопоставлено порочное рождение «человека греха», «сына погибели» ─ от блуда. Соответственно, антонимом образа Пречистой Девы в данном сюжете выступает образ блудницы. Жизнь и деяния Антихриста выворачивают наизнанку заповеди Христа и, в принципе, все представления о добре как фундаменте жизнестроительства. Антихрист в своих основных мотивах-характеристиках выступает как убийца, лжец, искуситель, гордый самозванец, узурпирующий власть Сына Божия. Чтобы добиться этой цели, он скроет свою сущность под маской Христа и будет почти неотличим от него. Однако ему не удастся избежать своей конечной участи в противостоянии с Христом. Завершение конфликта ─ смерть Антихриста как выражение гнева и возмездия Божия, наследование ада.
Представленная бинарная модель идеально реализована, например, в произведениях борисоглебского цикла. Они описывают события рубежа Х-ХI веков. Христоподобным мученикам, святым Борису и Глебу противостоит «злой человек», их убийца, антихристоподобный Святополк, зачатый от блудницы-монахини. Борисоглебский цикл стоит в начале впечатляющего ряда произведений русской литературы. В него, в частности, входят сочинения Аввакума, загадочные «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, то же «Собачье сердце» М.А. Булгакова.
Иногда писатели очень четко проговаривают архетипическую позицию, служащую им основой познания души и пути человека. «Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды», ─ говорит Л.Н. Толстой. В «Войне и мире» он размещает действующих лиц по шкале от Христа до Наполеона-антихриста; его герои либо статичны, либо перемещаются между «хорошим и дурным». У Ф.М. Достоевского аналогичное понимание загадок, которые разгадывает человек на земле, вложено в уста героя, Дмитрия Карамазова. Одна из них ─ загадка красоты: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы ─ сердца людей». Глубина и точность психоаналитического постижения духовного мира кроется именно в означенной гениями русской литературы художественной методологии.
Чтобы понять природу архетипа, мы всегда будем принуждены использовать термин «код». Кодом является сумма языковых единиц / концептов, выступающих как устойчивая, повторяющаяся система, а также правила организации данных единиц в сюжет-жизнеописание. Вероятно, сказанное наиболее всего понятно на примере еще одного архетипического сюжета. Он также восходит к Библии. Это сюжет о «добрых» и «злых женах». («Жена» в древнерусском языке – 1) женщина, 2) супруга.)
Приведу набор ключевых слов / мотивов, характеризующий невероятно популярную в русской литературе тему жен. Они (слова) почерпнуты из Священного Писания и средневековых сочинений.
Добрая жена: богобоязненная, боголюбивая; молитвенница, постница; добродетельная, нищелюбивая (служащая ближним и миру), благонравная (добронравная); благовоспитанная, любезная, благодарная; стыдливая; крепкая (не поддающаяся соблазну / искушению и чужой воле), воздержанная; милосердная; безукоризненная, хорошая; целомудренная, верная, чистая; кроткая (смиренная, покорная, тихая, послушная, беспрекословная); правдивая, честная; трудолюбивая, рукодельница, прилежная; бережливая; мудрая (умная); щедрая, бескорыстная; молчаливая; плодовитая, чадолюбивая; устроительница (помощница, подручница); спасительница, целительница и т. п.
Злая жена: баба богомерзкая, идоломолица, еретица, чародеица, колдунья / ведьма, нечестивая, бесноватая, прокудливая, плясавица, упьянчивая; убийца, законопреступная; злонравная, злопамятная; плохая (худая, скверная); наглая, позорная, грязная, срамная («сточная труба»); блудная (прелестница, бесстыдная, похотливая, растленная и растлительница, любодеица, сука, блядь / блядливая); заблудшая; гордая, властолюбивая, (непокорная, непослушная, упрямая, необузданная); лживая (ненавидящая правду, лицемерная, притворная, лукавая, льстивая, коварная, хитрая, пронырливая); ленивая (нерадивая); разорительница (растратчица); щеголиха; глупая (безрассудная, малоумная, злоумная); жадная, завистливая, крадливая; шумливая, сердитая, сварливая, гневливая; укоряющая, осуждающая, злословящая, злоязычная, проклинающая, клеветница; драчливая, яростная, лихая, буйная, бешеная, лютая, свирепая; ревнивая; ненавидящая мужа, ехидна (ненавидящая детей своих, рождающая отцеубийц и матереубийц); разрушительница (семьи, дома, рода); погубительница; змея / змееподобная (василиска, скорпия, жаба, черепаха, аспида), коза, львица, медведица, зверь; и т. п.
Всякий раз архетипический сюжет-код в той или иной своей версии моделирует художественное пространство текста.
Что касается сюжета о «доброй жене», то он разворачивается через мотивы жизнестроительства – уверенности (мужа, соединившего с ней свою судьбу) в будущем, устроения, созидания, любви, счастья, возрождения; пути от рождения до святости / духовного идеала. Сюжет о «злой жене» разворачивается через мотивы несчастья, беды, горя, разрушения, краха, пропасти, ада, гибели (самоубийства), смерти как возмездия Божия; пути от рождения до бездны.
Сюжетным заместителем «доброй» и «злой жены» в литературных текстах являются «добрый» и «злой человек» ─ мужские персонажи. Т.е. абсолютное большинство приведенных мотивов нужно написать еще и в мужском роде. (Специфически женским злом является нежелание рожать детей от мужа.) Прекрасный литературный пример ─ пара тождеств: Элен и Анатоль Курагины.
А еще есть воинский архетип. В русской истории он сверхактуален. (Предлагаю ознакомиться с ним самостоятельно, обратившись к моей книге «Сюжетная типология русской литературы ХI-ХХ веков. (Архетипы русской культуры.) От Средневековья к Новому времени». (Монография). Красноярск, 2009). Вот ссылка: https://independent.academia.edu/васильеввладимир).
Архетипическое литературоведение ─ это просто литературоведение. С позиции аналитики, оно внеличностное, точное, машинное (построено по бессознательным, но фактически математическим программам!); результаты его бесконечно верифицируются. На мой взгляд, огромным его достоинством является прикладной характер: оно психоаналитично. Каждый работающий с архетипами определяет не только меру добра и зла в литературном герое, его положение между Богом и дьяволом, Христом и Антихристом, но и свое место на той же шкале между «двумя безднами». Однозначно демонически в архетипической системе (!) маркируются сферы нигилизма, атеизма, социал-коммунистические, фашистские, модерн-либеральные убеждения, всевозможные эзотерические практики и выстроенные на основе перечисленного личностные картины мира. Вывод таков, что все это следует назвать демоническими религиозными конструктами. Никакой ошибки и даже приблизительности в этом определении нет. Данные конструкты представляют собой некую сумму неверифицируемых убеждений, идей или доктрин, т.е. они основаны исключительно на вере и выступают как ложные взгляды, манифестирующие архетип Тени. Видимым истоком этого демонического архетипа является внутренний конфликт, битва доброго и злого начала в душе человека. Назначение Тени ─ обессмысливание жизни, конечное уничтожение человека. Тень сметает с лица земли нации и культуры. Не сегодня началось, но в наше время как никогда видно всепобедное ее шествие в мире.
Если учесть, что архетипическое начало пронизывает все сочинения, в которых хоть сколько-то разработана проблематика добра и зла, то станет понятно, что количество произведений русской литературы, которое покрывает архетипическая матрица, необозримо. Говоря иначе, вся русская литература порождена библейскими архетипами, а потому она является своеобразной версией (мирского) богословия. В ней сокрыт взгляд Бога на человека.
В свое время Ю.М. Лотман видел «новую методологию гуманитарных наук» в провозглашенном им структурализме (см.: «Лекции по структуральной поэтике», 1964 г.). Он предсказывал появление «литературоведа нового типа»: «это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпирическим материалом с навыками дедуктивного мышления, вырабатываемого точными науками. Он должен быть лингвистом (поскольку в настоящее время языкознание “вырвалось вперед” среди гуманитарных наук и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера), владеть навыками работы с другими моделирующими системами, быть в курсе психологической науки и постоянно оттачивать свой научный метод, размышляя над общими проблемами семиотики и кибернетики. Он должен приучать себя к сотрудничеству с математиками, а в идеале – совместить в себе литературоведа, лингвиста и математика. Он должен воспитывать в себе типологическое мышление» («Литературоведение должно быть наукой», 1967 г.). Деятельность Лотмана напрямую была направлена на поиск текстуальных структур. К сожалению, ничего в этой области не было найдено, «новая методология» не состоялась. Но все поставленные вопросы и задачи остаются актуальными. Не могу утверждать, что в перечень того, что необходимо литературоведу «нового типа» обязательно должна войти семиотика. На мой взгляд, соединение структурализма как метода, ─ к тому же на то время еще невыработанного в применении к литературе, ─ и семиотики как частной дисциплины, которая сама нуждается в методе, послужило залогом методологической неудачи «лотмановской школы». К необходимому, как мы видим, следует добавить архетипический подход: «быть в курсе психологической науки» теперь означает быть психоаналитиком текста. Не сложно понять, что психоанализ в данном случае не имеет никакого отношения к фрейдизму. И еще один существенный момент: психоаналитик как исследователь внутреннего мира героев, населяющих тексты различных времен, это не ложный заместитель священника. Вопросы «свободы совести» и чья-либо личная жизнь не его территория. Не суди... Постижение литературной архетипики в значительной степени отменяет даже стандартные роли «учитель ─ ученик». Аналитик выступает скорее в роли объясняющего и путеводителя по сложной системе, одна из сильных функций которой ─ самовоспитание. Эта функция равно влияет и на старших, и на младших. Деятельность литературоведа заключена в строгие границы аналитической процедуры. Именно в этих границах он должен совместить в себе вместе с лингвистом и математиком еще и в какой-то степени... богослова и историка религии.
Реальность заключается в том, что для многих задача войти в архетипическое литературоведение оказывается травмирующей и, вообще, не по силам. Однако другая неотменимая сторона этой же реальности ─ предмет требует адекватного к нему подхода...
Вывод, который неизбежен при столкновении с глубинной природой русского текста и который формулирует выявленная система как объективная данность: если вы не в курсе, не понимаете, как все устроено, то вам не хватает профессиональных компетенций. Осваивайте эти компетенции, дорогие читатели ─ филологи, литературоведы, учителя и ученики! Дело того стоит! Да и цена вопроса велика. Быть дилетантом в профессии с годами непозволительно.
Всех с праздником! Со Всероссийским днем чтения!
Автор: Васильев Владимир Кириллович
Изображение: https://www.freepik.com
+7 (391) 206-26-85