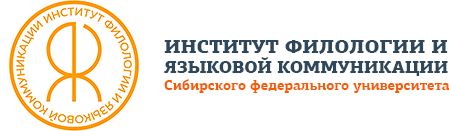Денису Ивановичу Фонвизину (1745-1792) повезло родиться... ближе к середине века. Ко времени его творческой зрелости уже не так строги были нелепые требования классицизма, изменился строй литературного языка и сам словарь. Вообще, трансформации в области литературы и литературных вкусов в ХVIII столетии были стремительными. В.К. Тредиаковскому (1703-1768), М.В. Ломоносову (1711-1765), А.П. Сумарокову (1717-1777), родившимся раньше, определенно не повезло. Для последующих поколений они, можно сказать, остались без языка – именно в лингвистическом смысле. Каждый из названных авторов был чрезвычайно одарен. Но сегодня представить, что простой читатель возьмет в руки опус кого-то из них для того, чтобы насладиться высокой эстетикой... Да ни одному фантастическому фантасту такое в голову не придет. Ведь скука же страшная. Творения их были забыты уже современниками фактически через несколько лет после смерти авторов. Для нас их поэтика мертва. А вот Фонвизин написал две комедии (реально – больше) – «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1782), которые до сих пор востребованы русским театром. Более всего, разумеется, последняя. (Надо сказать, что неугомонные театральные деятели – других в театре и не должно быть! – время от времени ставят что-нибудь из того же Сумарокова или из его современников. Когда перед очередной поездкой в Москву или Петербург роешься на этот предмет в интернете, то вдруг наткнешься на сообщение о постановке сумароковского «Гамлета» (есть у него такая пьеса...) или трагедии «Росслав» Я.Б. Княжнина (1740-1791). Естественно, что хочется побывать на подобных представлениях).
Барон Берндт-Вольдемар Фон-Виссин, рыцарь Ордена меченосцев попал в плен к русским при Иване Грозном, во время Ливонской войны. Он остался в России и поступил на службу, а зваться стал Петром Владимировичем. Денис Иванович из его рода. «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехристь? он русский, из прерусских русский», – обращался к своему брату, Льву А.С. Пушкин.
Нужно (в очередной раз) отдать должное точности пушкинской мысли. Семья, в которой рос и воспитывался Денис, была именно русской, православной, патриархальной. Отец учил сына грамоте по церковным книгам. Потом Фонвизин совершенно справедливо скажет, что без этих книг российского языка знать невозможно. Сын очень хорошо отзывался о родителях. «В чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» он писал о матери: «...имела разум тонкий и душевными очами видела далеко. Сердце ее было сострадательное и никакой злобы в себе не вмещало: жена была добродетельная, мать чадолюбивая». Об отце: он как истинный христианин «всегда краснел, когда кто лгать при нем не устыжался». «В доме нашем дурных людей не было».
Потом юноша учился в гимназии при недавно образованном Московском университете, учился в самом университете, служил по гражданской части. Службу Фонвизин перемежал с литературным трудом. Был у него и период увлечения модными кружками вольнодумцев. Но, несомненно, из семьи Денис Иванович вынес неприятие всякой несправедливости, внутреннего человеческого или социального уродства, всего, что основано на лжи и болезни. От матери ему достались «душевные очи», от отца неудержимое стремление к правде. Без того и другого писателями не становятся, тем более не попадают в классики.
В двухтомном собрании сочинений (1959 года) оригинальное и переводное, принадлежащее перу Фонвизина, умещается примерно на 1200 страницах. По меркам ХVIII века, это не мало. Но справедливости ради, наибольший интерес зрителей всегда вызывали комедии «Бригадир» и «Недоросль». Не без труда, но современные школьники способны одолеть историю Простаковых, а с хорошим учителем и увлечься пьесой. Она реально великолепна! Остальное все-таки для специалистов.
Фонвизин был прекрасным наблюдателем и невероятно одаренным пародистом. (Сегодня, он, скорее всего, выступал бы еще и на эстраде). Он был отличным чтецом. Сама Екатерина II пригласила его в Петергоф читать «Бригадира». Но причиной, конечно же, был успех его новой комедии и быстро распространявшаяся о ней молва.
Денис Иванович не мог не стать политическим писателем. Впрочем, такова российская почва – на ней даже кухарка становится политической кухаркой. Властителей либо хвалят (за что получают золотые табакерки и прочие вознаграждения), либо порицают. Во втором случае требуется смелость. Трусость – это, вообще, грех, а для писателя втрое. Сказал же Пушкин в «Евгении Онегине»: «Сатиры смелый властелин / Блистал Фонвизин, друг свободы». После «Недоросля» с его диагнозом дел при екатерининском дворе («Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится») и других политических выпадов Екатерина II запретила издание сочинений сатирика.
На мой взгляд, если Фонвизин был в чем-то прав, рисуя российские реалии, так это в том, что злонравие, крепостное рабство «в благоучрежденном государстве терпимо быть не может». Ну и воровать при должности нехорошо. И фаворитов бы не надо заводить бессчетно. Однако смешно...
В чем еще он прав?
Великое дело писателя – точно уловить и описать ментальные процессы своего времени, оставить потомкам описание и дел славных, и диагностику болезней. Денис Иванович справился с этим, как мало кто справлялся. В том числе и по его сочинениям мы познаем самих себя. За что нельзя не быть ему искренне благодарными!
Васильев В.К.
Кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации
Изображение: Copyright (c) Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
http://srv.museum.ru/default.asp?prg=LINK#link